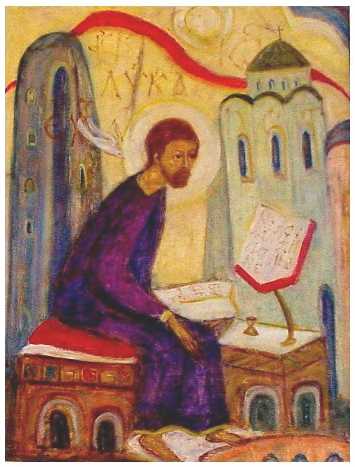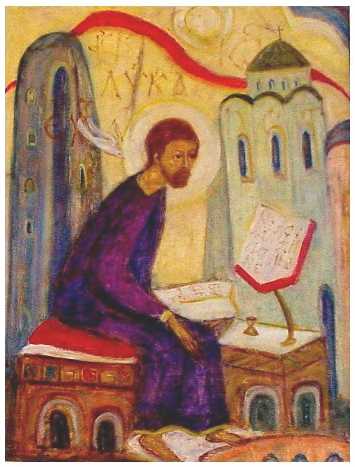СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ М. А. Георгиевского
Мы, воспитанники российских кадетских корпусов, принадлежим к новому
поколению нашей первой эмиграции. Но прежде всего, отдадим должное
старшему поколению, — оно представляло собой неповторимое явление. То
была элита старой императорской России, с громкими именами и карьерами в
прошлом — министры, послы, сановники высоких рангов, прославленные
генералы. Были и знаменитые ученые, историки. Были артисты, певцы,
несравненный русский балет; из него выросли многие иностранные балеты. Были
и простые русские люди, много было и казаков. Наконец, были и политики.
Разные политики — от крайне правых Маркова-Второго до эсеров В. Чернова и меньшевиков Р.
Абрамовича. Двадцатые годы были несомненно наиболее блестящими в жизни и
деятельности старшего поколения. Кипели политические страсти, все по-своему
старались объяснить причины, приведшие к торжеству коммунизма. Все оказались
виноватыми: и правые, и умеренные, и левые, и белые генералы, политиками не
бывшие.
И перед нашим новым поколением, впервые себя назвавшим так в 1923 году,
разворачивалась невеселая картина проигрыша Национальной России
интернациональному коммунизму.
Объяснения старшего поколения нас не удовлетворили. В среде нового
поколения началось „брожение умов". Оно заняло почти десять лет, и только в
начале июля 1930 года в Белграде состоялся первый съезд Русского Союза
Национальной Молодежи — РСНМ. Своим возникновением Союз обязан
Виктору Михайловичу Байдалакову, участнику гражданской войны на юге России
в рядах 4-го Мариупольского гусарского полка. Около Виктора Михайловича
собиралась молодежь, многие из них — кадеты, окончившие корпуса в братской
Югославии.
По довольно справедливому мнению моего друга по „Радио-Свободе" В.С.
Варшавского, написавшего книгу „Незамеченное поколение", наше поколение и
впрямь не было замечено старшим поколением. Мало кто из них обратил
внимание на искания тогдашней молодежи. Раньше всех заметили не отцы и
потенциальные друзья, но политики левого лагеря, проворонившие хилую
российскую демократию и отдавшие ее в руки Ленина. Заметили и сразу же заняли
враждебную новому поколению позицию.
В среде старшего поколения понял и по-настоящему оценил стремления
молодежи лишь один человек — профессор Михаил Александрович
Георгиевский. По духу новопоколенец, он вступил в Союз, сделав в него
огромный вклад своими большими знаниями, опытом и острым творческим умом.
На втором съезде Союза в декабре 1931 года М.А. был избран генеральным
секретарем Исполнительного Бюро Совета Союза. Тогда же Союз был
переименован в Национальный Союз Нового Поколения, кратко НСНП. Мне
думается, что именно по инициативе М.А. и произошло это переименование с
упором на новых людей.
Согласно принятому тогда уставу, членами НСНП могли
быть люди, родившиеся не ранее 1895 года. Конечно, делались исключения для
тех более старых, кто по духу был молод и отвечал идеям организации. Первым из
них был сам М.А. Георгиевский.
В прошлом М.А. — профессор Петербургского университета. Был он
выходцем из крестьянской семьи, учился на медные гроши и вышел в люди.
Знаток многих языков, в том числе и древнееврейского, он живо интересовался
политической жизнью России, но ни с какими партиями связан не был.
Октябрьская большевистская революция 1917 года возмутила его до глубины
души. Из Петрограда он ушел на юг России. Если мне не изменяет память, то в
1919 году он принимал участие в работах комиссий Особого Совещания — так
тогда называлось южно-русское правительство при генерале А. И. Деникине.
Поражение белых армий привело М.А. в Югославию. Он поселился с женой
Еленой Георгиевной и тещей Марией Ивановной в Земуне, там приобрел
небольшой домик, а на жизнь зарабатывал преподаванием языков в гимназии.
Одним из первых его дел был доклад „Ошибки эмиграции, настоящее ее
положение и наш долг". Этот доклад превратился в учебное пособие. По мысли
М.А. и В.М. Байдалакова, члены Союза должны были стать политически
грамотными и способными к ведению революционной борьбы с большевиками.
При его участии были тогда, к 1934 году, разработаны конспекты курса
национально-политической подготовки. В общей сложности их было больше
двадцати, в том числе „Наша идеология и наши задачи".
Был М.А. волевым и энергичным человеком, любая сторона деятельности
новопоколенцев была в поле его зрения. Был он и „министром иностранных дел"
Союза. Его частые поездки по европейским странам позволили ему правильно
оценить складывавшуюся тогда обстановку в мире и учесть опасности, грозившие
России в неумолимо надвигавшейся второй мировой войне. Одним из первых в
эмиграции М.А. понял всю опасность, которую представлял собой для России
Гитлер с его безумно фонатическими идеями „нового порядка". Понимал он и то,
что в своей борьбе за Россию эмиграция одинока, что никто, кроме нас самих, не
заинтересован в возрождении Национальной России. От М.А. и пошла идея
„третьей силы", т.е. ставки на самих себя при любых обстоятельствах. В таком
духе и воспитывался НСНП.
М.А. стал и главным идеологом Союза. Его мысли подхватывались другими
идеологическими деятелями, такими, как К.Д. Вергун, И.В. Вощинин, Ю.А.
Герцог, А.Н. Неймирок. Постепенно идея социального мира в противоположность
большевистской борьбе классов вылилась в доктрину солидаризма, четко и ясно
изложенную пером Георгиевского. В июльском номере газеты „За Россию" за
1935 год была напечатана большая статья
М.А. „Наше Национально-Трудовое Движение". В ней излагались основные
идеи общества, построенного на началах российского национализма и
солидаризма. В связи с развитием союзной идеологии НСНП был переименован
в Национально-Трудовой Союз Нового Поколения — НТСНП.
Мне посчастливилось не раз встречаться с М.А. и говорить с ним о жгучих
проблемах того времени. Я познакомился с ним еще в Лионе в августе 1933 года,
когда он провел в кругу Лионского отделения пять памятных дней. Затем весной
1934 года встречался в Париже на втором съезде национальных группировок.
Хорошо помнится и его посещение нашей „Льдины" — тайной типографии в
Фалькензее под Берлином в 1938 году. И, наконец, в Белграде. Особенно
задушевными были беседы в его земунском домике за чашкой чая. О многом
говорили тогда: и о неумолимо приближавшейся Второй мировой войне, о жизни
России под советской властью, о наших задачах и трудностях. Об этих
трудностях М.А. писал в серии статей „На далеком пути", печатавшихся в газете
„За Россию". Зная о планах гитлеровцев, М.А., помню, сказал:
„Нам не нужны
немцы побеждающие. Труден будет наш путь". И он был прав — путь
действительно оказался очень трудным и опасным. Говорили и о людях, о их
способностях и возможностях. Безапеляционно М.А. заявил: „Нет людей
незаменимых". Я возразил: „А кто же может заменить вас? Нет таких". И вышло
по-моему, замены ему не нашлось.
М.А. верно предугадал пагубную гитлеровскую политику. Иной раз в узком
кругу высказывался против Гитлера и его национал-социализма.
Вторжение немцев в Югославию крайне осложнило положение
Георгиевского. Каким-то образом, вероятно, от немецкого агента в среде русских
белградцев, гестапо узнало о его враждебных гитлеровщине взглядах. После
занятия Белграда немецкими войсками М.А. был вынужден скрываться у друзей
в Сремской Митровице. Вернулся он в Земун после учреждения самостийной
Хорватии, вассала Италии. Гестапо уважало эту самостийность, но посещать
Белград он не мог, его арестовали бы и отправили в немецкий концлагерь.
В августе 1941 года часть Исполнительного Бюро Совета НТСНП —
председатель Союза В.М. Байдалаков и К.Д. Вергун — по приглашению
редактора берлинской газеты „Новое Слово" В.М. Деспотули и с ведома тайной
немецкой оппозиции, переехала в Берлин с целью организации „третьей силы"
на занятых немцами
территориях России.
В Берлин устремились многие члены Союза из Югославии,
Чехословакии, Франции и Бельгии. Часть из них „по зеленой дорожке"
нелегально перебралась в Россию для организации групп Союза на родной земле.
Другая часть образовала берлинское подполье, занявшееся разработкой
подробной программы нового строя после свержения коммунистической власти.
По намеченному до вторжения немцев в Югославию плану, М.А. с группой
членов должен был переехать в Лондон и действовать в сотрудничестве с
польским правительством в изгнании. Но события обогнали планы, и вторжение
немцев в Югославию отрезало М.А. путь на запад.
Живя в Земуне, М.А. поддерживал устную связь с В.М. Байдалаковым
через членов Союза, ездивших в отпуск или по делам из Германии в Белград.
Помню, что и я через Е.И. Дивнича передал М.А. мои соображения и привет.
Положение М.А. еще больше осложнилось летом 1944 года после ареста В.М.
Байдалакова и многих членов НТС в Берлине и других местах. Связи М.А. с
Союзом оборвались. Тем временем к Белграду приближалась красная армия, и
над М.А. нависла грозная опасность.
Дома у него не было все благополучно — болела теща. В октябре 1944 года
М.А. слишком поздно вышел из дома, направляясь в Венгрию, где у него были
друзья. Но, видимо, за его домиком следили югославские коммунисты, и на пути
в Венгрию его захватили титовские партизаны.
Одновременно в Белграде коммунисты арестовали члена НТС Никиту
Дурново. Титовцы передали М.А. и Дурново СМЕРШу, переправившему их в
Дебрецин, а оттуда их доставили самолетом в Москву и заключили в тюрьму на
Лубянке. В этом застенке и оборвалась жизнь самого замечательного
политического деятеля первой эмиграции.
О его судьбе я узнал от Никиты
Дурново. Его, как югославского гражданина, выпустили из СССР. Он поселился
в Вене, там вскоре и умер от последствий многолетнего заключения в советских
концлагерях.
А в насыщенной ложью и вымыслами книжке И. Дорбы „Под опущенным
забралом", на стр. 492, напечатано якобы сказанное Георгиевским „последнее
слово обвиняемого", в котором он „раскаивался в своих ошибках и
заблуждениях" и „просил снисхождения".
Если бы это было правдой, то такое заявление советчики немедленно
использовали бы для своей пропаганды в среде эмиграции, и особенно в среде
НТС. Но такого не случилось ни в 40-х
годах, ни позже. Вероятно, они и не пытались превратить Георгиевского в нового
Савинкова.
Товарищ Дорба, у вас в СССР принято говорить, что у лжи короткие ноги.
Ваша ложь не отличается от лжи других фальсификаторов истории. У замученного
в лубянском застенке вы такого слова не вырвали. Погиб он так же, как погибли
многие другие непримиримые борцы за Россию.
К сожалению, и в эмиграции нашлись подголоски фальсификаторов истории.
В газете „Новое Русское Слово" от 16 мая 1984 года „верховный атаман"
казакийцев В. Глазков писал:
„Как и лидер русских черносотенцев Шульгин,
Георгиевский добровольно возвратился в Совесткий Союз после Второй мировой
войны".
Ни Шульгин, ни Георгиевский такой „доброй воли" не проявили — их
взяли насильно. Георгиевского убили, а Шульгина заключили в знаменитую
владимирскую тюрьму. Да и не был Шульгин черносотенцем, к Союзу Михаила
Архангела он не принадлежал и в своей газете „Киевлянин" писал против
обвинения Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве.
Но в отличие от М.А.
Георгиевского, советчики использовали В.В. Шульгина. Памятно до сих пор его
обращение к эмиграции, вызвавшее бурю протестов и глубокое возмущение: он
действительно уподобился Савинкову.
Советская власть предоставила ему
возможность написать книгу „Годы", и умер он в глубокой старости, уже
прощенный советской властью.
Б. Прянишников
|